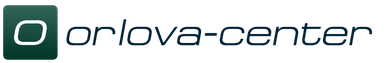А.Белый. Новое, «яркое» слово в русской литературе. В реферате на основе анализа текстов поэтических произведений А.Белого рассмотрены следующие вопросы: -вехи жизни, связанные с творческой деятельностью поэта; -тема «вечного возвращения» как центральная в творчестве поэта; -основные мотивы самых ярких сборников: «Пепел» и «Урна». Цели и задачи автора реферата: показать значение личности А.Белого как теоретика символизма; утверждение поэтом «нового, яркого слова» в русской литературе (обновление поэтического языка, формы стиха, его ритмики, словаря, красок и др.). Эпиграфами работы выбраны слова самого А.Белого «Мне вечность – родственна» и высказывание Михаила Чехова «Время в мире Белого было не тем, что у нас. Он мыслил эпохами». Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева;)
Время рубежа веков – время рождения в русской культуре ярких индивидуальностей, личностей. Рубеж веков называют русским ренессансом. Это время явило блестящее созвездие ярких индивидуальностей. «В России в начале века был настоящий культурный ренессанс, - писал философ Бердяев. – Только жившие в это время знают, какой творческий подъём у нас пережит, какое веяние духа охватило русские души. Россия пережила расцвет поэзии и расцвет философии, пережила напряжённые религиозные искания, мистические и оккультные настроения». Значимым явлением в русской поэзии на рубеже веков был символизм. Он не охватывал всего поэтического творчества в стране, но обозначил собой особый, характерный для всего времени этап литературной жизни. Движение символистов возникло как протест против оскудения русской поэзии, как стремление сказать в ней свежее слово, вернуть ей жизненную силу.

Лучшие произведения корифеев русского символизма (Бальмонта, Брюсова, Анненского, Сологуба, Белого) освежили и обновили поэтический язык, обогатив формы стиха, его ритмику, словарь, краски. Они как бы привили нам новое поэтическое зрение, приучили объёмнее, глубже, чувствительнее воспринимать и расценивать поэзию. Символисты - творцы-художники, высокие эрудиты, люди обширных знаний, яркой индивидуальности: у каждого из них в поэзии свой тембр голоса, своя палитра красок, свой облик. Певучий Бальмонт, многогранный с литыми строфами Брюсов, тонкий психолог, созерцатель Иннокентий Анненский и мятущийся Андрей Белый.

Андрей Белый (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева;) родился и вырос в среде московской интеллигенции, в семье знаменитого математика, профессора Московского университета Николая Васильевича Бугаева. Уже учась в университете, Белый ежедневно посещал семью Михаила Сергеевича и Ольги Михайловны Соловьевых - родителей своего друга Сергея. "Не чайный стол - заседание Флорентийской академии", - с благодарностью вспоминал Белый дом Соловьевых. Михаил Сергеевич помог Борису Бугаеву сочинить псевдоним "Андрей Белый" (белый - священный, утешительный цвет, представляющий собою гармоническое сочетание всех цветов, любимый цвет Владимира Соловьева). В 1898 году поступает на физико-математический факультет Московского университета и по его окончании учится на историко-филологическом факультете. В это время вокруг Бугаева складывается кружок московских «аргонавтов» (по стихотворению «Наш Арго»). В 1900 году Бугаев окончательно решает стать писателем. В этом году создана первая из четырех его "симфоний" - "Северная" или "Героическая". Писатель впоследствии признавался, что, называя свои первые прозаические опыты "симфониями", он и сам толком не знал, что это такое. "Симфонии" Белого больше схожи с сонатами. Слово "симфония" было для Белого своего рода символом.

Белый часто обращался к лейтмотивной технике ведения повествования. То есть выделение в произведении одной, двух и более главных тем, к которым повествователь возвращается через определенные промежутки времени. Уже во второй "симфонии" с темой "вечного возврата" борется тема жизнеутверждения. Во второй "симфонии" на первой же странице возникает образ солнца - зловещий "глаз", уставившийся на землю и проливающий на нее потоки "металлической раскаленности". Первый поэтический сборник Белого "Золото в лазури" выходит в 1904 году. В этом сборнике солнце - предмет почти что языческого поклонения: Солнцем сердце зажжено. Солнце - к вечному стремительность. Солнце - вечное окно в золотую ослепительность. "Солнце"

Стихотворение "Солнце" посвящено К. Бальмонту - автору книги "Будем как Солнце". Также в этом сборнике Белый отождествляет солнце с образом Золотого руна. В стихотворном цикле "Золотое руно" Белый преобразует древнегреческий миф в символическое иносказание жизненных целях своего поколения - поколения рубежа столетия. Нацеленность в будущее пронизывает все стихотворения раздела "Золото в лазури".

1905 – 1908 г.г. наполнены драматизмом в жизни А.Белого, связанным с его личными переживаниями – 1908 г.г…. Начинается период «исцеления» от перенесенного удара. В эти годы Белый начинает видеть Россию сквозь призму лирики Некрасова. Памяти Некрасова посвящается сборник стихотворений "Пепел" (1908). Стихотворения сборника тщательно отобраны и расположены в очень продуманном порядке. В него не вошли многие из стихотворений, написанных одновременно со стихами "Пепла", из них Белый составил следующий сборник "Урна"(1909). Идея «Пепла» точнее всего сформулирована самим Белым: «Пепел» - книга самосожжения и смерти, но сама смерть не только завеса, закрывающая горизонты дальнего, чтоб найти их в ближнем». Сборник выстроен по линии всё большего и большего просветления «горизонта» (недаром один из последних разделов сборника называется «Просветы»). Пространство "Пепла" - это система вписанных друг в друга кругов, сжимающихся по мере приближения к "центру". Первый "круг" самый большой - почти что безграничные, "пустые", "страшные", голодные пространства России, в которых обречен на рассеяние измученный болезнями, голодом и пьянством народ:

Туда, где смертей и болезней Лихая прошла колея... "Отчаяние" Тема хаоса - сквозная тема сборника - особенно акцентирована в этом разделе. Естественная реакция человека на встречу с хаосом - первобытное чувство священного ужаса. Это чувство выражено в образах "неизвестности", "оторопи": «Где по полю оторопь рыщет, Восстав сухоруким кустом... " "Отчаянье"

Пространство "круга" - "Деревни" - имеет более четкие контуры. Оно уже не пусто, а насыщено предметами подчеркнуто обыденными. В контексте общего замысла сборника и высунутый "красный язык" висельника, и стаи то черных, то изумрудных мух, и кровь, свищущая пеной "из-под красной рукоятки" - символы безысходной, тупиковой, совершающейся в одномерном пространстве смерти: Красною струею прыснул Красной крови ток. Ножик хряснул, ножик свистнул, В грудь, в живот и в бок. "Убийство Пространство следующего раздела "Город" еще конкретнее: Москва "пира во время чумы". Ритуальная пляска Смерти перенесена в "Городе" с открытых пространств России в замкнутый мирок квартир:

В этом мирке живут беспечные богатые люди, которые не видят ничего вокруг себя. Особое значение мотивы жертвенности и крестного страдания приобретают в разделе "Безумие"(венок из "колючей крапивы"):... Здесь хозяин гостье рад. Звякнет в пол железной злостью Там косы сухая трость, Входит гостья, щелкнет костью, Взвеет саван: гостья смерть. "Маскарад" Над простором плету, неподвижен, Из колючей крапивы венок... "В полях"

Кто зовет благоуханной клятвою, Вздохом сладко вдаль зовет идти, Чтобы в день безветренный над жатвою Жертвенною кровью изойти? "Жизнь" Это мотивы, которые возвращают надежду. Она слабо забрезжит в последнем стихотворении раздела - "Друзьям", - зато укрепится и усилится в следующем разделе "Просветы": "Пепел" является самым трагическим стихотворным сборником Андрея Белого.

Следующий его сборник -"Урна"(1909). Этот сборник посвящен Брюсову. Большинство стихотворений сборника носят элегический характер, хотя в "Урне" содержатся и глубоко личные, почти что дневниковые записи о пережитой драме: Год минул встречи роковой, Как мы, любовь лелея, млели... И ежели тебя со мной Любовь не связывает боле, Уйду, сокрытый мглой ночной, В ночное, в ледяное поле... Сложу в могиле снеговой Любви неразделенной муки... "Ссора" "Урна" - последнее, что создал Андрей Белый в драматическое четырехлетие (гг.).

В конце 1910 года А.Белый со своей женой Асей Тургеневой едут в путешествие по Северной Африке. Вернувшись из путешествия по Северной Африке, весной 1911 году в Россию Белый пишет "Путевые заметки" - самое светлое произведение из всех им написанных. В марте 1912 года он с женой уезжает в Европу, где живет до 1916 года, изредка наезжая в Россию. В сентябре 1916 Белый возвращается на родину. Россия ожидает его. С Россией Белый переживает ее самое трагическое время: Рыдай, буревая стихия, В столбах громового огня! Россия, Россия, Россия, Безумствуй, сжигая меня!.. Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня! «Родине» Это написанное в августе 1917 года самое знаменитое стихотворение Белого точнее всего передаёт отношение поэта к свержению царизма. В Духов день 20 июня 1921 года он начинает писать поэму "Первое свидание" - реквием по сгоревшему в буревой стихии миру, по своей молодости, по гибнущей русской культуре.


"Первое свидание" - вершина поэзии Андрея Белого 20-х годов. Дальше начинается "путь нисхождения". "Мне всю жизнь грезились какие-то новые формы искусства, в которых художник мог бы пережить себя слиянным со всеми видами творчества... Я хотел вырваться из тусклого слова к яркому", - признавался Белый, и действительно, поиск, непокой, движение образуют самое существо его человеческой и писательской натуры. Последние годы жизни Белого не составляют исключения, скорее даже наоборот: пробуются все новые формы, жанры, стили, писатель сочетает работу над "Москвой" с путевыми заметками "Ветер с Кавказа" и "Армения", с трудами по стиховедению, философскими этюдами и культурологическими опытами, обращается к театральным инсценировкам и даже киносценарию.

Смерть писателя в 1934 году была осознана современниками как завершение целой эпохи. И совершенно очевидно, что созданные Белым поэтические произведения и проза оставила глубокий след не только в литературе, но и во всей русской культуре. Андрей Белый – это одна из самых ярких личностей начала 20 века, видный представитель и теоретик русского символизма. Это энциклопедически образованный человек. Примечательно, что принципы символизма Белый стремился утверждать как в своих художественных произведения, так и в теоретических работах: «Символизм» (1910), «Арабески» (1911), «Трагедия Творчества. Достоевский и Толстой» (1911), «Поэзия слова» (1922), «Мастерство Гоголя» (1934) и др. Мемуары Андрея Белого вошли в число основополагающих книг по истории символизма и литературы начала 20 века (три тома: «На рубеже столетий», «Начало века», «Между двух революций»). Известно, что многие русские поэты обязаны А.Белому как чуткому и мудрому учителю. Изобретательность, воздушная грация и острота, отличающие многие стихотворения А.Белого, не оставляет равнодушным читателя.

Характерные идейные и художественные особенности "младосимволистского" течения и художественного метода символизма проявились в творчестве Андрея Белого (псевд., наст, имя – Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934) – поэта, прозаика, критика, автора работ по теории символизма, мемуаров, филологических исследований. В философских и эстетических исканиях А. Белый был всегда противоречив и непоследователен. На первом этапе своего идейно-творческого развития он увлекался Ницше и Шопенгауэром, философскими идеями Вл. Соловьева, затем неокантианскими теориями Риккерта, от которых вскоре решительно отказался; с 1910 г. стал страстным проповедником антропософских взглядов философа-мистика Рудольфа Штейнера.
Под воздействием Ницше и Шопенгауэра Белый считал, что самая выразительная форма искусства, которая может охватить все сферы человеческого духа и бытия, есть музыка, – она определяет пути развития искусства нового времени, в частности поэзии. Этот тезис Белый пытался доказать своими "Симфониями", навеянными идеями Соловьева и построенными на сказочных фантастических мотивах, в основном средневековых легенд и сказаний. "Симфонии" полны мистики, предощущений, ожиданий, которые своеобразно сочетались с обличением духовного обнищания современного человека, быта литературного окружения, "страшного мира" мещанской бездуховной обыденности. "Симфонии" строились на столкновении двух начал – высокого и низкого, духовного и бездуховного, прекрасного и безобразного, истинного и ложного, реальности чаемой и являющейся. Этот основной лейтмотив развивается в многочисленных образных и ритмических вариациях, бесконечно изменяющихся словесных формулах и рефренах.
В 1904 г., одновременно со "Стихами о Прекрасной Даме" А. Блока, появился первый сборник стихов А. Белого "Золото в лазури". Основные стилевые особенности стихов этой книги определены уже в ее названии. Сборник наполнен светом, оттенками радостных красок, которыми пылают зори и закаты, празднично освещая мир, стремящийся к радости Вечности и Преображению. Тема зорь – сквозной мотив сборника – раскрывается в типично символистском ключе мистических ожиданий. И здесь, как и в "Симфониях", мистическая фантастика Белого сплетена с гротеском. Такое сплетение двух стилевых стихий станет характерной особенностью стиля А. Белого, поэта и прозаика, у которого высокое всегда граничит с низким, серьезное – с ироническим. Романтической иронией освещается в сборнике и образ поэта, борющегося с иллюзиями своего художественного мира (он переживает уже эпоху "разуверений"), которые, однако, остаются для него единственной реальностью и нравственной ценностью.
Стихи последнего раздела сборника – "Прежде и теперь" – предвосхищают мотивы, образы, интонации будущей его поэтической книги "Пепел". В поэзию А. Белого вторгается современность – бытовые сценки, зарисовки повседневности жизни, жанровые картинки из быта города.
Сильнейшее воздействие на развитие миросозерцания А. Белого оказала революция 1905–1907 гг. Миф Вл. Соловьева о пришествии Вечной Женственности не реализовался. В сознании поэта наступает кризис. События современности, реальная жизнь с ее противоречиями все более привлекают его внимание. Центральными проблемами его поэзии становятся революция, Россия, народные судьбы.
В 1909 г. выходит самая значительная поэтическая книга А. Белого – "Пепел". В 1920-х годах в предисловии к собранию своих избранных стихов Белый так определил основную тему сборника: "...Все стихотворения „Пепла” периода 1904– 1908 годов – одна поэма, гласящая о глухих, непробудных пространствах Земли Русской; в этой поэме одинаково переплетаются темы реакции 1907 и 1908 годов с темами разочарования автора в достижении прежних, светлых путей" .
Книга посвящена памяти Н. А. Некрасова. От мистических зорь и молитв, вдохновленных лирикой Вл. Соловьева, Белый уходит в мир "рыдающей Музы" Некрасова. Эпиграфом поэт берет строки из известного некрасовского стихотворения:
Что ни год – уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней...
Мать-отчизна! дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
По желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведреный день впереди...
Тема России, нищей, угнетенной, в стихах "Пепла" – основная. Но, в отличие от лирики Некрасова, стихи А. Белого о России наполнены чувством смятенности и безысходности. Первая часть книги ("Россия") открывается известным стихотворением "Отчаяние" (1908):
Довольно: не жди, не надейся –
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья,
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать:
<...>
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сенью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, –
Туда, – где смертей и болезней
Лихая прошла колея, –
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
А. Белый пишет о деревне, городе, "горемыках" (так названы разделы книги), скитальцах, нищих, богомольцах, каторжниках, "непробудных" пространствах Руси. Поэт широко использует поэтические традиции народной лирики. В передаче народного стиля, ритма народного стиха он формально достигает предельной виртуозности. Но, в отличие от Блока, А. Белый не сумел выйти за пределы формальной стилизации, не усмотрел в народном творчестве его основного пафоса – жизнеутверждения и исторического оптимизма. Чувству роковой неприкаянности русской жизни соответствуют в стихах сборника заунывные ритмы стиха, тусклые, серые пейзажи. В этом сборнике нет сияющих красочных эпитетов, пронизывающих книгу "Золото в лазури"; здесь все погружено в пепельную серость полутонов.
Стихи А. Белого о России значительны по формальному мастерству, ритмическому разнообразию, словесной изобразительности, звуковому богатству. Но художественно они несоизмеримы со стихами А. Блока о Родине, написанными в то же время. Если раздумья Блока о России полны оптимистических ожиданий начала больших жизненных перемен, если для поэта во тьме всегда сияет свет, если в просторах родной страны он ощущает ветер грядущей битвы, то мысли А. Белого о России пронизаны чувством отчаяния, а представления поэта о будущем – мертвенная тишина могильных погостов.
Своеобразна (в отличие от Брюсова и Блока) по идейно- творческой трактовке и тема города: ей уделено в "Пепле" значительное место. Белый пишет о конкретных революционных событиях 1905 г. ("Пир", "Укор", "Похороны"), городской бытовой жизни, прежде всего о "призрачности" современного города. Среди городского маскарада призраков внимание поэта привлекает символ рока и революции – "Красное домино", образ, который станет одним из центральных в романс "Петербург".
В 1909 г. вышла книга стихов А. Белого "Урна". В предисловии к ней поэт писал, что если "Пепел – книга самосожжения и смерти", то основной мотив "Урны" – "раздумья о бренности человеческого естества с его страстями и порывами". Эта книга ориентирована уже па иные историко-литературные традиции – традиции Батюшкова, Державина, Пушкина, Тютчева, Баратынского. Белый предстает в книге как блестящий версификатор, но все это – стилизации, явление изощренного стилистического маскарада.
В области поэтики "Урна" – книга откровенно формального эксперимента. По меткому выражению одного из критиков, это своеобразное словесное "радение". Сборник был вершиной формальных поисков, искусных стилизаций, отразивших работу А. Белого над поэтикой русского стиха. Эго была попытка проверить теорию поэтической практикой. "Урной" завершился целый этап поэтического развития А. Белого.
В это же время А. Белый написал ряд статей, посвященных экспериментальному изучению ритма. Его опыты положили начало формальному изучению художественного текста ("Лирика и эксперимент", "Опыт характеристики русского четырехстопного ямба", "Сравнительная морфология ритма русских лириков в ямбическом диметре", "Магия слов"). На них во многом опиралась русская школа формалистов.
В 1910-е годы А. Белый-поэт не создает ничего принципиально нового. Он начинает работать над большой эпопеей, условно названной "Восток и Запад". Метафизический характер социально-исторических концепций А. Белого заранее определил неудачу книги. Написать эпопею он не смог, но создал повесть "Серебряный голубь" – о мистических исканиях интеллигента, пытающегося сблизиться с народом на сектантской основе, и роман "Петербург" – самое значительное свое произведение в прозе. В эти годы он пишет статьи о символизме ("Символизм", "Луг зеленый", "Арабески"), в которых подводит итог многолетним размышлениям об искусстве и делает новую попытку обосновать направление.
Эстетические взгляды А. Белого тех лет определили художественную специфику его прозы. А. Белый утверждал, что истоки современного искусства – в трагическом ощущении рубежа эпох человеческой истории. "Новая" школа знаменует кризис миросозерцаний. "Новое искусство" утверждает примат творчества над познанием, возможность лишь в художественном акте преобразовать действительность. Цель символизма – пересоздание личности и раскрытие более совершенных форм жизни. Символическое искусство в основе своей религиозно. А в трактате "Эмблематика смысла" Белый построил систему символизма на базе философии Риккерта. Он писал, что символизм для него – "религиозное исповедание", имеющее свои догматы. Символический образ, считал Белый, ближе к религиозному символизму, чем к эстетическому. Вне творческого духа мир есть хаос, сознание ("переживание") творит действительность и организует ее по своим категориям. Художник не только творец образов, но и демиург, создающий миры. Искусство есть теургия, религиозное деяние. Культура исчерпана, человечество стоит перед преображением мира и новым богоявлением. Таковы основные тезисы эстетической системы А. Белого 1910-х годов.
Прозаические произведения А. Белого этого времени – своеобразное явление в истории прозы. Белый перевернул синтаксис, затопил словарь потоком новых слов, совершил "стилистическую революцию" русского литературного языка, которая завершилась (в большинстве его опытов) неудачей.
В романе "Петербург", развертывая тему города, намеченную в "Пепле", А. Белый создал мир невероятный, фантастический, полный кошмаров, извращенно-прямых перспектив, обездушенных людей-призраков. В романе нашли свое законченное выражение основные идеи и художественные особенности творчества Белого предшествующих лет, осложненные теперь его увлечением мистической философией теософов. В нем отразилось и отрицательное отношение "младосимволистов" к городской культуре как культуре Запада, искусственно насажденной в России волею Петра, и отрицание ими самодержавно-бюрократического государства.
Петербург у Белого – призрак, материализованный из желтых туманов болот. В нем все подчинено нумерации, регламентированной циркуляции бумаг и людей, искусственной прямолинейности проспектов и улиц. Символом мертвенных бюрократических сил Петербурга и государства выступает в романе царский сановник Аполлон Аполлонович Аблеухов, стремящийся законсервировать, заморозить живую жизнь, подчинить страну бездушной регламентации правительственных установлений. Он борется с революцией, преследует людей с "неспокойных островов". В его образе проступают черты К. Победоносцева, известного консерватора К. Леонтьева, требовавшего "подморозить
Россию", щедринских героев. Но власть и сила Аблеухова призрачны. Он живой мертвец, обездушенный автомат императорской государственной машины. В заостренной гротескной сатире на абсолютизм, полицейско-бюрократическую систему царизма – сила романа, обусловленная связями его с критической линией русской литературы (Пушкина, Гоголя, Достоевского), образы которой трансформирует А. Белый.
В целом роман формируется ложной идеей Белого о смысле, целях, силах революции, противопоставлением истинности "революции в духе", как начала подлинного преображения жизни, неистинности социальной революции, которая может свершиться лишь после и в результате духовного преображения человека и человечества под влиянием мистических переживаний, мистически осознанного грядущего кризиса культуры. Используя принятую символистами символику цветов, А. Белый противопоставляет "Красному домино", социальной революции, – "Белое домино", символ чаяний подлинного (мистического) преображения мира.
В сюжетной схеме этого романа заключена сложная философско-историческая концепция А. Белого, его апокалипсические чаяния. И консерватор Аблеухов, и его сын- революционер, и Дудкин оказываются орудиями одного и того же "монгольского" дела нигилизма, разрушения без созидания.
После Октябрьской революции А. Белый ведет занятия по теории поэзии с молодыми поэтами Пролеткульта, издает журнал "Записки мечтателей" (1918–1922). В своем творчестве и после Октября он остается верен символистской поэтике, особое внимание уделяет звуковой стороне стиха, ритму фразы.
Из произведений А. Белого советского периода значительный интерес представляют его мемуары "На рубеже двух столетий" (1930), "Начало века. Воспоминания" (1933), "Между двух революций" (1934), в которых рассказывается об идейной борьбе в среде русской интеллигенции начала века, о предоктябрьской России.
- Белый А. Стихотворения. Берлин; Пг.; М., 1923. С. 117.
После разнообразия форм свободного стиха и интонационных модуляций в «Золоте в лазури» книга «Урна» выделяется преждевсего стремлением автора выразить себя в строгом, выверенном стихе, преобладанием классического четырехстопного ямба (хотя и отмеченного богатством и своеобразием ритмических вариантов).
Безусловно, это результат осознанной программы обуздания импровизационной лирической стихии во имя тщательного исполнения поэтического задания, ограниченного сугубо «художественными» критериями. Образцом для сосредоточенно-грустных, «философических» раздумий Белого в этой книге служит медитативная лирика Пушкина, Баратынского, Тютчева, а «школой» формы, примером творческой выдержки и самодисциплины стала в первую очередь поэзия Брюсова, которому посвящена «Урна» и чей образ выразительно запечатлен в ее вступительном цикле.
Опора на избранных учителей и последовательность в реализации творческой программы позволили Белому создать в «Урне» многие из наиболее совершенных образцов его лирики. В сравнении с избыточной, резкой красочностью «Золота в лазури» «Урна» отличается сдержанностью, нарочитой тусклостью поэтической палитры. «Какие скудные, безогненные зори!» — восклицает поэт («Ночь», 1907), как бы вновь, но уже другим внутренним «я» встречаясь с тем явлением, которому ранее посвящал восторженные гимны. В книге господствуют «зимние» настроения просветленной печали, сменяющиеся воспоминаниями о пережитой душевной драме и горькими выводами:
Бесследна жизнь. Несбыточны волненья.
Ты — искони в краю чужом, далеком...
Безвременную боль разуверенья
Безвременье замоет слезным током.
(«Разуверенье», 1907)
В стихах «Урны» Белый старается не покидать четко очерченных пределов своего лирического «я»; в «Пепле», напротив, он стремится представить целый хор голосов, говорящих от имени угнетенных сословий. Преодолевая асоциальность символистской эстетики, Белый в предисловии к «Пеплу» демонстративно заявлял, что художнику-символисту не возбраняется обращаться к любым сторонам жизни: «Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария — все это объекты художественного творчества.

Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении — символы некоей реальности: фантастика, быт, тенденция, философическое размышление предопределены в искусстве живым отношением художника. И потому-то действительность всегда выше искусства; и потому-то художник — прежде всего человек».
В этих утверждениях — огромный сдвиг по отношению к прежней эстетической программе Белого, согласно которой подлинный художник — прежде всего теург и прорицатель, а действительность — лишь несовершенная эманация подлинных объектов художественного познания. Столь же демонстративно Белый посвятил «Пепел» памяти Некрасова, — казалось бы, наиболее чуждого символизму из числа крупнейших русских поэтов. Влияние Некрасова наложило сильнейший отпечаток на образную структуру «Пепла».
Поэзия «Коробейников» и «Кому на Руси жить хорошо» дала Белому ключ к постижению окружающей реальности в ее социальном аспекте, в жизненной простоте, в бытовой и национальной своеобычности. Рецензируя «Пепел», Вячеслав Иванов писал, что «Некрасов разбудил в Белом человека-брата». К Некрасову восходят многие темы и образы «Пепла»: в частности, его поэма «Железная дорога» дала толчок к разработке во многих стихотворениях Белого мотива железной дороги, которая предстает символом социального гнета, несправедливости, мертвящей бесчеловечной цивилизации.
История русской литературы: в 4 томах / Под редакцией Н.И. Пруцкова и других - Л., 1980-1983 гг.
-------
| сайт collection
|-------
| Андрей Белый
| Урна (сборник)
-------
Посвящаю эту книгу Валерию Брюсову
Разочарованному чужды
Все обольщенья прежних дней…
Баратынский
Грустей взор. Сюртук застегнут.
Сух, серьезен, строен, прям -
Ты над грудой книг изогнут,
Труд несешь грядущим дням.
Вот бежишь: легка походка;
Вертишь трость – готов напасть.
Пляшет черная бородка,
В острых взорах власть и страсть.
Пламень уст – багряных маков -
Оттеняет бледность щек.
Неизменен, одинаков,
Режешь времени поток.
Взор опустишь, руки сложишь…
В мыслях – молнийный излом.
Замолчишь и изнеможешь
Пред невеждой, пред глупцом.
Нет, не мысли, – иглы молний
Возжигаешь в мозг врага.
Стройной рифмой преисполни
Вихрей пьяные рога,
Потрясая строгим тоном
Звезды строящий эфир…
Где-то там… за небосклоном
Засверкает новый мир: -
Там за гранью небосклона -
Небо, небо наших душ:
Ты его в земное лоно
Рифмой пламенной обрушь.
Где-то новую туманность
Нам откроет астроном: -
Мира бренного обманность -
Только мысль о прожитом.
В строфах – рифмы, в рифмах – мысли
Созидают новый свет…
Над душой твоей повисли
Новые миры, поэт.
Все лишь символ… Кто ты? Где ты?..
Мир – Россия – Петербург -
Солнце – дальние планеты…
Кто ты? Где ты, демиург?..
Ты над книгою изогнут,
Бледный оборотень, дух…
Грустен взор.
Сюртук застегнут.
Гори, серьезен, строен, сух.
Март 1904
Москва
Упорный маг, постигший числа
И звезд магический узор.
Ты– вот: над взором тьма нависла…
Тяжелый, обожженный взор.
Бегут года. Летят: планеты,
Гонимые пустой волной, -
Пространства, времена… Во сне ты
Повис над бездной ледяной.
Безводны дали. Воздух пылен.
Но в звезд разметанный алмаз
С тобой вперил твой верный филин
Огонь жестоких желтых глаз.
Ты помнишь: над метою звездной
Из хаоса клонился ты
И над стенающею бездной
Стоял в вуалях темноты.
Читал за жизненным порогом
Ты судьбы мира наизусть…
В изгибе уст безумно строгом
Запечатлелась злая грусть.
Виси, повешенный извечно,
Над темной пляской мировой, -
Одетый в мира хаос млечный,
Как в некий саван гробовой.
Ты шел путем не примиренья -
Люциферическим путем.
Рассейся, бледное виденье,
В круговороте бредовом!
Ты знаешь: мир, судеб развязка,
Теченье быстрое годин -
Лишь снов твоих пустая пляска;
Но в мире – ты, и ты – один,
Все озаривший, не согретый,
Возникнувший в своем же сне…
Текут года, летят планеты
В твоей несчастной глубине.
1904
Москва
М. А. Волошину
Снега синей, снега туманней;
Вновь освеженней дышим мы.
Люблю деревню, вечер ранний
И грусть серебряной зимы.
Лицо изрежет ветер резкий,
Прохлещет хладом в глубь аллей;
Ломает хрупкие подвески
Ледяных, звонких хрусталей.
Навеяв синий, синий иней
В стеклянный ток остывших вод,
На снежной, бархатной пустыне
Воздушный водит хоровод.
В темнеющее поле прыснет
Вечерний, первый огонек;
И над деревнею повиснет
В багровом западе дымок;
Багровый холод небосклона;
Багровый отблеск на реке…
Лениво каркнула ворона;
Бубенчик звякнул вдалеке.
Когда же в космах белых тонет
В поля закинутая ель,
Сребро метет, и рвет, и гонит
Над садом дикая метель, -
Пусть грудой золотых каменьев
Вскипит железный мой камин:
Средь пламенистых, легких звеньев
Трескучий прядает рубин.
Вновь упиваюсь, беспечальный,
Я деревенской тишиной;
В моей руке бокал хрустальный
Играет пеной кружевной.
Вдали от зависти и злобы
Мне жизнь окончить суждено.
Одни суровые сугробы
Глядят, как призраки, в окно.
Пусть за стеною, в дымке блеклой,
Сухой, сухой, сухой мороз, -
Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блещущих стрекоз.
1907
Петровское
Год минул встрече роковой.
Как мы, любовь лелея, млели,
Внимая вьюге световой,
Как в рыхлом пепле угли рдели.
Над углями склонясь, горишь
Ты жарким, ярким, дымным пылом;
Ты не глядишь, не говоришь
В оцепенении унылом.
Взгляни – чуть теплится огонь;
В полях пурга пылит и плачет;
Над крышею пурговый конь,
Железом громыхая, скачет.
Устами жгла давно ли ты
До боли мне уста, давно ли,
Вся опрокинувшись в цветы
Желтофиолей, рез, магнолий.
И отошла… И смотрит зло
В тенях за пламенной чертою.
Омыто бледное чело
Волной волос, волной златою.
Померк воздушный цвет ланит.
Сомкнулись царственные веки.
И все твердит, и все твердит:
«Прошла любовь», – мне голос некий
В душе не воскресила ты
Воспоминанья бурь уснувших…
И ежели забыла ты
Знаменованья дней минувших?
И ежели тебя со мной
Любовь не связывает боле, -
Уйду, сокрытый мглой ночной,
В ночное, в ледяное поле:
Пусть ризы снежные в ночи
Вскипят, взлетят, как брошусь в ночь я,
И ветра черные мечи
Прохладный свистом взрежут клочья.
Сложу в могиле снеговой
Любви неразделенной муки…
Вскочила ты, над головой
Свои заламывая руки.
1907
Москва
Над крышею пурговый конь
Пронесся в ночь. А из камина
Стреляет шелковый огонь
Струею жалящей рубина.
«Очнись: ты спал, и я спала…»
Не верю ей, сомненьем мучим.
Но подошла, но обожгла
Лобзаньем пламенно-текучим.
«Люблю, не уходи же – верь!..»
А два крыла в углу тенистом
Из углей красный, ярый зверь
Развеял в свете шелковистом.
А в окна снежная волна
Атласом вьется над деревней:
И гробовая глубина
Навек разъята скорбью древней…
Сорвав дневной покров, она
Бессонницей ночной повисла -
Без слов, без времени, без дна,
Без примиряющего смысла.
1908
Москва
В окне: там дев сквозных пурга,
Серебряных, – их в воздух бросит;
С них отрясает там снега,
О сучья рвет; взовьет и носит.
Взлетят и дико взвизгнут в ночь,
Заслышав черных коней травлю.
Печальных дум не превозмочь.
Я бурю бешеную славлю.
Когда пойду в ночную ярь,
Чтоб кануть в бархате хрустящем,
Пространство черное, ударь, -
Мне в грудь ударь мечом разящим.
Уснувший дом. И мы вдвоем.
Пришла: «Я клятвы не нарушу!..»
Глаза: но синим, синим льдом
Твои глаза зеркалят душу.
Давно все знаю наизусть.
Свершайся, роковая сказка!
Безмерная, немая грусть!
Холодная, немая ласка!
Так это ты (ужель, ужель!),
Моя серебряная дева
(Меня лизнувшая метель
В волнах воздушного напева),
Свивая нежное руно,
Смеясь и плача над поэтом, -
Ты просочилась мне в окно
Снеговым, хрупким белоцветом?
Пылит кисей кисейный дым.
Как лилия, рука сквозная…
Укрой меня плащом седым,
Приемли, скатерть ледяная.
Заутра твой уснувший друг
Не тронется зеркальным телом.
Повиснет красный, тусклый круг
На облаке осиротелом.
1908
Москва
Декабрь… Сугробы на дворе…
Я помню вас и ваши речи;
Я помню в снежном серебре
Стыдливо дрогнувшие плечи.
В марсельских белых кружевах
Вы замечтались у портьеры:
Кругом на низеньких софах
Почтительные кавалеры.
Лакей разносит пряный чай…
Играет кто-то на рояли…
Но бросили вы невзначай
Мне взгляд, исполненный печали.
И мягко вытянулись, – вся
Воображенье, вдохновенье, -
В моих мечтаньях– воскреся
Невыразимые томленья;
И чистая меж вами связь
Под звуки гайдновских мелодий
Рождалась… Но ваш муж, косясь.
Свой бакен теребил в проходе…
Один – в потоке снеговом…
Но реет над душою бедной
Воспоминание о том,
Что пролетело так бесследно.
Сентябрь 1908
Петербург
Чернеют в далях снеговых
Верхушки многолетних елей
Из клокотаний буревых
Сквозных, взлетающих метелей.
Вздыхающих стенаний глас,
Стенающих рыданий мука:
Как в грозный полуночи час
Припоминается разлука!
Непоправимое мое
Припоминается былое…
Припоминается ее
Лицо холодное я злое.
Пусть вечером теперь она
К морозному окну подходят
И видит: мертвая луна…
И волки, голодая, бродят
В серебряных, сквозных полях;
И синие ложатся тени
В заиндевевших тополях;
И желтые огни селений,
Как очи строгие, глядят,
Как дозирающие очи;
И космы бледные летят
В пространства неоглядной ночи.
И ставни закрывать велит…
Как пробудившаяся совесть,
Ей полуночный ветр твердит
Прости же, тихий уголок,
Тебя я покидаю ныне…
О, ледени, морозный ток,
В морозом скованной пустыне!..
1907
Париж
Я шел один своим путем;
В метель застыл я льдяным комом.
И вот в сугробе ледяном
Они нашли меня под домом.
Им отдал все, что я принес:
Души расколотой сомненья,
Кристаллы дум, алмазы слез,
И жар любви, и песнопенья,
И утро жизненного дня.
Но стал помехой их досугу.
Они так ласково меня
Из дома выгнали на вьюгу.
Непоправимое мое
Воспоминается былое…
Воспоминается ее
Лицо холодное и злое…
Прости же, тихий уголок,
Где жег я дни в бесцельном гимне!
Над полем стелется дымок.
Синеет в далях сумрак зимний.
Мою печаль, и пыл, и бред
Сложу в пути осиротелом:
И одинокий, робкий след,
Прочерченный на снеге белом, -
Метель со смехом распылит.
Пусть так: неметствует их совесть,
Хоть снежным криком ветр твердит
Моей глухой судьбины повесть.
Покоя не найдут они:
Пред ними протекут отныне
Мои засыпанные дни
В холодной, в неживой пустыне…
Все точно плачет и зовет
Слепые души кто-то давний:
И бледной стужей просечет
Окно под пляшущею ставней.
1907
Париж
Сергею Кречетову
Хотя бы вздох людских речей,
Хотя бы окрик петушиный:
Глухою тяжестью ночей
Раздавлены лежат равнины.
Разъята надо мною пасть
Небытием слепым, безгрезным.
Она свою немую власть
Низводит в душу током грозным.
Ее пророческое дно
Мой путь созвездьями означит
Сквозь вихрей бледное пятно.
И зверь испуганный проскачет
Щетинистым своим горбом:
И рвется тень между холмами
Пред ним на снеге голубом
Тревожно легкими скачками:
То опрокинется в откос,
То умаляется под елкой.
Заплачет в дальних далях пес,
К саням прижмется, чуя волка.
Как властны суеверный страх,
И ночь, и грустное пространство,
И зычно вставший льдяный прах -
Небес суровое убранство.
Январь 1907
Париж
Кругом крутые кручи,
Смеется ветром смерть.
Разорванные тучи!
Разорванная твердь!
Лег ризой снег. Зари
Краснеет красный край.
В волнах зари умри!
Умри – гори: сгорай!
Гремя, в скрипящий щебень
Железный жезл впился.
Гряду на острый гребень
Грядущих мигов я.
Броня из крепких льдин.
Их хрупкий, хрупкий хруст.
Гряду, гряду – один.
И крут мой путь, и пуст.
У ног поток мгновений.
Доколь еще – доколь?
Минуют песни, пени,
Восторг, и боль, и боль -
И боль… Не вольно – ах,
Клонюсь над склоном дня,
Клоню свой лик в лучах…
И вот – меня, меня
В край ночи зарубежный,
В разорванную твердь,
Как некий иней снежный,
Сметает смехом смерть.
Ты – вот, ты – юн, ты – молод,
Ты – муж… Тебя уж нет:
Ты – был: и канул в холод,
В немую бездну лет.
Взлетая в сумрак шаткий,
Людская жизнь течет,
Как нежный, снежный, краткий
Сквозной водоворот.
1908
Петербург
Сергею Соловьеву
Как минул вешний пыл, так минул страстный зной.
Вотще покоя ждал: покой еще не найден.
Из дома загремел гульливою волной,
Волной разымчивой летящий к высям Гайден.
Здесь представлен ознакомительный фрагмент книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста (ограничение правообладателя).
Если книга вам понравилась, полный текст можно получить на сайте нашего партнера.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения "Крещенская ночь», «Собака», "Одиночество" (возможен выбор трех других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: "Господин из Сан-Франциско", "Чистый понедельник» ". Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе "Господин из Сан-Франциско". Психологизм бунинской прозы и особенности " внешней изобразительности". Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести "Поединок", "Олеся", рассказ "Гранатовый браслет" (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести "Олеся", богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести "Поединок". Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях "Олеся", "Поединок". Любовь как высшая ценность мира в рассказе "Гранатовый браслет". Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Леонид Николаевич Андреев
Рассказ «Иуда Искариот». Психологически сложный, противоречивый образ иуды. Любовь, ненависть и предательство. Трагизм одиночества человека среди людей. Традиции Достоевского в прозе Андреева.
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «Челкаш», "Старуха Изергиль". Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького Народнопоэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа "Старуха Изергиль".
"На дне". Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. "Три правды" в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Литературный портретный очерк как жанр. Публицистика. «Мои интервью», «Заметки о мещанстве» «Разрушение личности».
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).
Серебряный век русской поэзии
Символизм
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
"Старшие символисты": Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.
"Младосимволисты": А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Валерий Яковлевич Брюсов . Слово о поэте.
Стихотворения: "Творчество", «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: "Будем как солнце", "Только любовь", "Семицветник" как выразительница"говора стихий". Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору ("Злые чары", "Жар-птица"). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» (обзорное изучение с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник "Золото в лазури"). Резкая смена ощущения мира художником (сборник "Пепел"). Философские раздумья поэта (сборник "Урна").
Акмеизм
Программные статьи и «манифесты» акмеизма. Статья Н.Гумилева "Наследие символизма и акмеизма" как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилева. С. Городецкого, А Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев . Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф». «Озеро Чад», "Старый Конквистадор", цикл «Капитаны», "Волшебная скрипка», "Заблудившийся трамвай" (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию 20 века.
Футуризм
Западноевропейский и русский футуризм. Футуризм в Европе. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, "самовитого" слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.). кубофутуристы (В. Маяковский. Д, Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), "Центрифуга" (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев),
Стихотворения из сборников. "Громокипящий кубок". "Ананасы в шампанском", "Романтические розы", " Медальоны" (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок . Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Незнакомка». «Россия», "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", (из цикла "На поле Куликовом»), "На железной дороге". (Указанные произведения обязательны для изучения).
"Вхожу Я в темные храмы... ", "Фабрика", "Когда вы стоите на моем пути". (Возможен выбор других стихотворений.)
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: "Стихи о Прекрасной Даме". Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы "страшного мира", идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле "На поле Куликовом" и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл. Верлибр (Свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).